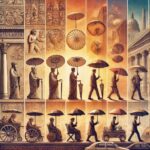Художник, как и режиссер, не ставил перед собой задачу воссоздания на сцене социальной среды, не стремился к исторической конкретности и к воспроизведению атмосферы чего бы то ни было реального. Он отказывался от любых декоративных излишеств. Его целью было обнаружение своего непосредственного видения пьесы. Он устранял со сцены все лишнее, как бы освобождая место для самораскрытия потенциальных возможностей драмы. Подходы к этому могли быть различными. В одних случаях использовались рисованные декорации, в других — особые конструкции, а актерская игра, световые эффекты и другие элементы оформления должны были довершать представление о сценическом пространстве и передавать духовный смысл изображаемого.
Если художник предпочитал живописные эффекты, декорации, как правило, создавали ложные перспективы, изобиловали усеченными или намеренно асимметричными фигурами, стремились к выразительности линий, преимущественно вертикальных, — словом, как и в знаменитом фильме «Кабинет доктора Калигари», представляли характерным образом деформированное видение мира. Возможно, именно из-за подобных деформаций экспрессионизм зачастую обвиняли в вычурности и тенденциозности. Однако, по мнению самих экспрессионистов, в этом не было ничего непродуманного или необоснованного. Создавая декорации, художник стремился выразить свое восприятие пьесы, показать собственное понимание представленных событий.
Вот что, например, писал Людвиг Зиверт по поводу пьесы «Барабаны в ночи» Бертольта Брехта: «…стены здесь — символ хаоса и революции… В других сценах ночное безумие революции… выражено ослепительными бликами красного и желтого, и над всем этим — луна, как налитый кровью глаз. Реальность передана через лирическую ирреальность баллады или сна». Декорации Отто Рейгберта к той же пьесе, хотя и сильно отличались от оформления Зиверта, были стилизованы в чем-то сходным образом. Формы столь же экспрессивно деформированы, а на заднем плане вырисовываются очертания холодного, бездушного города, погруженного в хаос, над которым, как и у Зиверта, светит кроваво-красная луна — символ Берлина, охваченного революцией.
Искаженные формы окон, дверей, стен зачастую становились выражением чувств самого художника, тогда как мир на сцене нередко выступал продолжением сознания основного персонажа. В конечном счете ключ к пониманию природы подобных деформаций следует искать в мистических склонностях экспрессионистов.
Впрочем, это только один из аспектов рассматриваемой проблемы. Многие теоретики экспрессионизма — в частности, Феликс Эммель в работе «Экстатический театр» (1924) — воспринимали декорации как помеху «динамическому развитию действия пьесы». Эммель полагал, что важно высвободить внутреннее зрение аудитории, дать волю ее воображению и, «выбросив за борт… декоративный хлам», освободить сцену от всего лишнего так, чтобы возникло сценическое пространство, могущее выявить «весь потенциал драмы». Сцена остается пустой, позволяя реализовывать любые возможности, пространство же намечено черным сукном, предоставляя полную свободу воображению зрителя.
В 1919 г. в Берлине был основан экспериментальный театр «Трибуна» (Die Tribune). В манифесте, написанном к его открытию, говорилось: «Революция в театре должна начаться прежде всего с трансформации сценического пространства» и установления принципиально новых отношений между сценой и зрительным залом. Здесь в октябре 1919 г. Карл Хайнц Мартин осуществил постановку пьесы Толлера «Превращение». Декорации Роберта Неппаха ограничились лишь намеком на реальную обстановку. События разворачивались на фоне подвижных ширм с заостренными углами: они определяли место действия и выражали атмосферу пьесы, основная же роль отводилась актеру.
Пустое сценическое пространство использовалось также художником Зивертом для оформления пьесы «Сын». Главный герой сидел в центре светового круга. Стены комнаты состояли из черных бархатных ширм, на которых белой краской были намечены прямоугольники дверных проемов, вокруг царил мрак, пронизанный тайной и напряжением. В глубине — неизменный на протяжении всей пьесы мотив: за большим окном, словно закрытым тюремной решеткой, абстрактный пейзаж таящего угрозу города. Ничего лишнего на сцене, минимум деталей. Сама «неполнота» декораций заставляла зрителей обратить внимание не на фактическую сторону происходящего, а на то, что под ним подразумевалось.
Эта тенденция получила дальнейшее развитие в творчестве режиссера Леопольда Иесснера, руководившего тогда «Берлинер штаатстеатер». Здесь им были поставлены такие пьесы, как «Вильгельм Телль» Шиллера, «Ричард III», «Отелло» Шекспира, «Наполеон» Граббе.
Иесснер категорически отвергал традиционное оформление сцены. По поводу постановки «Вильгельма Телля» он писал следующее: «Долой натуралистическую наглядность швейцарских пейзажей, в реальность которой не верит ни один образованный зритель, долой устаревший хлам декораций и кулис. Все это атрибуты прошлого, наступило новое время с новыми требованиями, и театр не может не откликнуться на них!»
В творчестве Иесснера и художников, с ним сотрудничавших (Пирхан в «Ричарде III» и «Отелло», Клейн в «Наполеоне»), не оставалось и следа от натурализма и импрессионизма в духе театра Рейнхардта. На первый план вышло требование «динамического» и «ритмического пространства», предложенное Адольфом Аппиа и Эмилем Жак-Далькрозом. Постановки Иесснера явились их реальным воплощением. Отвергая иллюзорность сценического мира, художник и режиссер стремились создать такие декорации, в которых отразился бы сам ритм действия и были выделены его основные моменты. Использование ступенек, подиумов и лестниц позволяло создать трехмерное сценическое пространство, с наибольшей интенсивностью раскрыть сущность произведения, сосредоточить внимание на актере, добиться экспрессивности в выражении состояния души героя. Знаменитая «лестница Иесснера» не объединяла персонажей, а, наоборот, разделяла их, изолировала друг от друга, противопоставляла одну группу действующих лиц другой. Так, в «Ричарде III» основным элементом оформления стала огромная, во всю сцену лестница, увенчанная площадкой с троном, — логическая эмблема возвышения, а затем падения Ричарда. В конце пьесы он, спотыкаясь, сбегал по ступеням вниз, где его и настигало возмездие.
Творчество Иесснера, таким образом, во многом развивало и углубляло символистские идеи Эдварда Гордона Крейга. Задача художника состояла не в том, чтобы представить во всех подробностях Тауэр или комнату Дездемоны, а лишь символически обозначить их. Для указания места действия «Ричарда III» достаточно было зеленовато-серой стены с воротами, олицетворявшей замок. Буквально одного штриха, кровати, колонны, едва намеченной на сцене, угла здания, обозначенного на абстрактном фоне циклорамы, вращающейся площадки было достаточно, чтобы обозначить место действия в «Отелло».
Зато в глаза бросался резкий контраст между белизной подсветки и темным лицом Мавра: рождалась та самая символика цвета, которой режиссеры-экспрессионисты уделяли особое внимание. Иесснер, как и многие другие постановщики, часто использовал цвет в качестве драматического приема, причем не только в освещении циклорамы, изменявшемся на протяжении спектакля, но и в качестве фона действия (например, в «Ричарде III» ступени лестницы были покрыты красным ковром, король появлялся на сцене в красном плаще, красной была кровь его жертв). Немаловажную роль играл цвет и в костюмах персонажей, где становился символическим средством психологической и сценической характеристики: спектакль начинался монологом Ричарда в темном костюме на фоне черного занавеса, а завершался словами Ричмонда в белом плаще на белом фоне. В военных сценах солдаты Ричарда были в черном, сторонники Ричмонда — в белом. Подобная символика, возможно, была несколько примитивной, но действенной, рождая у зрителей соответствующие ассоциации.
Конечно, живописные решения Зиверта существенно отличались от пластических композиций Пирхана, к тому же существовало множество промежуточных вариантов сценического оформления, однако, несмотря на разницу в подходе к решению своей задачи, оба они стремились к одной цели: создать такие декорации, которые вписались бы в концепцию спектакля, стали равноправным компонентом «целостного спектакля». Зиверту это удавалось потому, что его композиции как бы повторяли состояние героя (недаром он говорил, что сценическая атмосфера — это «второе я» актера), а Пирхан добивался того же результата за счет усиления динамики действия.